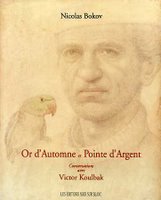Накопилось с весны
ТАЙНЫ УСПЕХА
Заговорить весело и увлеченно,
крикнуть добрый день кому-то на противоположной платформе,
захохотать, услышав смешную шутку,
прищелкнуть языком, увидев живот красавицы,
протянуть руку незнакомой знаменитости поверх голов,
смело нахмуриться, увидев банду хулиганов,
немедленно купить книгу знаменитого брадобрея,
долго задавать вопросы запыхавшемуся чемпиону,
посетовать на повышение цен (в соседних странах),
ужаснуться бедности (на других континентах),
удостоиться дипломов менеджера, администратора, социолога,
охотно участвовать в телевизионных диспутах о милосердии,
гордиться военной славой родины удачных войн,
не афишировать суммы на счетах дальних родственников в Швейцарии,
удачно выбрать подрядчика для строительства новых домов в пригороде,
умело организовать прием на загородной даче,
не позволять дремать своим сбережениям,
помочь продать вагон карабинов энергичному африканскому генералу,
почувствовать необходимость выйти из семейной спячки,
снять квартиру для хорошенькой преподавательницы стрельбы из лука,
съездить в Бразилию за недорогим лифтингом,
принять меры против накопления холестерина в венах,
прибегнуть к сердечным стимуляторам,
избегать сильных переживаний во время скачек,
ограничить общение с преподавательницей китайской гимнастики,
стараться чаще выходить в приватный парк,
как можно меньше пить виски, снотворных и стимуляторов,
навестить могилу родителей и убедиться в ее хорошем состоянии,
почувствовать безразличие к только что забитому голу,
больше не узнавать самого великого исполнителя куплетов,
чаще спрашивать время у медсестры (из Восточной Европы),
следить взглядом за бьющейся по эту сторону стекла мухой,
стараться дотянуться ночью до бутылки с водой,
упасть на пол и больше не шевелиться.
ИНОЕ
Перелистывать страницы книги надеясь обнаружить чистое слово
Крутить ручку настройки приемника
Разыскивая ухом кусочек музыки в массе звучания
Вглядываться в лица прохожих ловя
Отблеск удивления перед открывавшейся вечностью
Смотреть на летящие облака восхищаясь до слез их эфемерностью
Следить за паденьем листа дерева предвкушая собственное исчезновенье
Провожать взором загорелые колени велосипедистки
Вычисляя за сколько минут она доедет до следующего перекрестка
Подниматься к себе в мансарду не останавливаясь до этажа шестого
Гордясь хорошей работой привычного сердца
Засыпать глубокою ночью невинным сном
Наслаждаясь плавать в неведомом голубом пространстве
СВИДАНИЕ
Красота ее рта казалась необыкновенной
Тонкая линия верхней губы изогнутая луком усмешки
Приоткрытая нижняя обнажала жемчужную кукурузу зубов
Подбородок вызывал в памяти образ лебедя
Округлый тупой кончик носа изливал вожделение
Наполняя им взгляд слух и даже потели ладони
Немного беспокоила форма узости лба но к счастью
Ресницы полностью пленяли вниманье
И еще эти брови крыльями ласточки
Возносили предвкушение к далекому небу
А потом сладость косточек ключиц
Стекавшая к полушариям Магдебурга
Снабженным розовыми бутонами изнеможения
И наконец прерывая становящееся тягостным ожидание
Мужская рука поглаживала осторожно бедра
Проникая в пространство горячей тьмы между ними
Достигая вздрогнувшего шершавого углубления
Производя пожатием вздох и трепет
Нет нельзя вслух говорить о том
Что происходило с нами далеко заполночь
ФИЛОСОФ
Я спросил старого китайца лежавшего на асфальте при входе в театр
Почему инь и янь все время меняются местами
Он долго вслушивался в звуки непонятной речи и улыбался
Произнес вероятно слова и повернул руку ладонью вверх
Нужно думать что он просил милостыню и я так подумал
Положил на нее монету с профилем испанского короля
Он покачал головой и протянул мне деньги обратно
Улыбаясь он говорил что-то держа руку козырьком над глазами
ВОСПОМИНАНИЕ ДЕТСТВА
Всё связать в пучки
Всё сложить в аккуратные кучи
Всё разложить по коробкам
Всё развесить на стенах
Всех вывести во двор
Всем раздать деревянные кружочки
Всем приказать положить их на землю
Всем приказать отвернуться от них
Всем выдать по бутерброду
Всем приказать снять пиджаки
Всех пересчитать дважды
Всем приказать сравнить результаты
Всем приказать поднять правую руку
Всем продемонстрировать силу убеждения
Всех вынудить потупить взгляд
Всех отпустить живыми до следующего раза
ТРЕЗВЕНИЕ
Среди комсомольского воронья
Прошла наша певчая юность
И вот наша очередь развалиться на канапе
Потягивать различные бодрящие напитки
Когда-то втянутые ныне вывалились животы
И блеск взора подернулся поволокой сиесты
Смех взлетавший жаворонком
Стал жирным ползающим словно черви
Надежды уступили место проверке счетов
Вера вышла на минутку взглянуть на небо
И не вернулась а вот любовь
Обозначилась потным сопеньем в гостинице
Скучные списки титулов названий участий
Завесили окна и двери и даже форточки нет
Бедную душу ничто теперь не достанет
Разве великая блистающая угроза исчезновения
Только последний предел режущий последнюю пуповину
О ночная красавица соблазняющая однако немногих
Любовница берущая всякого по своему усмотрению
Не разбирая ни пола ни возраста писательница
Высекающая на продолговатом камне
День окончательной встречи с незадачливым смертным
ПРАЗДНИК В ПРОВИНЦИИ
Приближалась танцуя задела плечом
Я взглянул не подумав тогда ни о чем
Лишь наутро увидел движенье бедра
И в тревоге ужасной воспрянул с одра
Только сонное зрел трепетанье ресниц
И волшебно скольженье руки ее ниц
Открывался заветный мерцающий холм
Вожделенья и стонов и сладости полн
Словно выпук упругий тяжелой волны
Будто шелест речений горячей молвы
ТАК БЫЛО
Он писал эту книгу двадцать лет.
Ты прочел ее за одну ночь.
Так и должно быть, иначе не хватит
Людей на земле прочитать все книги
И оправдать существование библиотек.
И тем более библиотекарш.
Я знал одну по имени Маргарита,
У нее была неприязнь к произведению «Фауст»,
Он исчезал с ее поступлением на работу.
Читателей у сей знаменитой книги
Насчитывалось совсем немного. В конце концов,
Об этом знал только я, следовательно, никто.
Еще Маргарита любила водить пальцем
По запотевшему стеклу моего старенького автомобиля.
СВЯЗЬ ВРЕМЕН
вернуться в детство
через дверь ароматов трав
оказавшись в нем
смотреть в будущее
окно звездного неба
очнувшись оплакивать
настоящее
ПЕРЕД ПОВЕСТЬЮ
приходит мир на эти берега
под этой желтою луною
спасибо Господи печаль моя легка
как птичий лет над головою
великий день степенно настает
и ветер возится с ветвями
о рук твоих чудесный хоровод
и поцелуй горячими устами.
НА ВЕРАНДЕ КАФЕ
лаковые сапоги офицера
мятый галстук экономиста
запачканный пиджак художника
кокетливые баскетки студентки
широкие шаровары двоечника
пестрый костюм жокея
оживленная галиматья телеспикера
легкое платьице школьницы
тяжелая сумка домохозяйки
фетровая шляпа пенсионера
глубокое декольте певицы
жирное брюхо полицейского
лукавая улыбка министра
потная рука издателя
торопливая дребедень радиокомментатора
жирные щеки музыковеда
настороженный взгляд профессора
грязные волосы клошара
дубовый гроб генерала
и другие социальные роли
ПОСЛЕ ЭТОГО НЕ ПО ПРИЧИНЕ ЭТОГО
Пчела собирает нектар, а уже подбирается ветер сбросить ее в воду
Зоркий глаз сокола видит пугливую мышь вышедшую на сбор урожая себе на погибель
В венах маньяка густеет адреналин при виде беспечно идущей домой кассирши универмага
Встает солнце последнего дня изнемогшего от жажды заблудившегося гидролога
Рассеянно входит поэт в кафе и не знает что встретит сегодня любительницу его стихов надевающую после долгих раздумий розовые колготки
Школьник дрожа идет на экзамен с единственной теоремой в голове, и она-то и попадется ему в билете
Голодный бомж дрожащей рукой вписывает последнюю цифру счастливого номера лотереи
Муха цеце пронзающая кожу на бритом затылке спящего под пальмой вождя племени и заражая его смертельной сонной болезнью, не видя макаки уронившей огромный орех кокоса падающий вниз с растущей скоростью несущий смерть мухе вождю и мирному договору с соседями, оставшемуся неподписанным наступающим вечером при свете факелов на площади поселка
Директор банка в пижаме потягиваясь потягивает свой утренний кофе не ведая что в девяти километрах четверо безжалостных налетчиков смазывают и заряжают свои калашниковы
Известный писатель обнимает за плечи лолиту на берегу синего океана любуясь пенистым гребнем на горизонте не понимая что привлечен видом так называемого цунами
Дирижер дремлющий на заднем сиденье такси после долгого перелета испуганный сновидением Петрушки Стравинского сталкивающим его с дирижерского пульта в черную суфлерскую яму
Водитель грузовика со строительным мусором мчащийся к перекрестку уверенно нажимающий на педаль не зная что воздух весь вышел из тормозов через крохотное отверстие в проржавевшей металлической трубке
Премьер-министр читает доклад об экономии ожидаемой от принятия закона об эвтаназии не подозревая что стенки его сосудов утончаются в четырех местах готовясь прорваться и дать вытечь крови в центрах управляющими движением мускулов и парализовать их увы навсегда
И другие последствия неведения.
НУ И НУ
Ну поднимись
ну встань
ну переставляй ноги
ну давай ну потерпи
ну упрись ну нажми
ну подотрись
ну что ты такой
ну еще немного
ну тяни
ну подожди
ну поцелуй
ну вздохни
ну скажи
ну попей
ну утрись
ну не дрожи так
ну несите его
ну вот и всё
ЛЕТОПИСЬ
Вс. Некрасову, с восхищением
жили
переживали
дожили
жили же
переживали
пережили
жили
и дожили
переживали
выживали
доживали
и жили
дожили
переживали
выживали
отживали
выжили
сживали
поживали
и жили
и были
и сплыли
Заговорить весело и увлеченно,
крикнуть добрый день кому-то на противоположной платформе,
захохотать, услышав смешную шутку,
прищелкнуть языком, увидев живот красавицы,
протянуть руку незнакомой знаменитости поверх голов,
смело нахмуриться, увидев банду хулиганов,
немедленно купить книгу знаменитого брадобрея,
долго задавать вопросы запыхавшемуся чемпиону,
посетовать на повышение цен (в соседних странах),
ужаснуться бедности (на других континентах),
удостоиться дипломов менеджера, администратора, социолога,
охотно участвовать в телевизионных диспутах о милосердии,
гордиться военной славой родины удачных войн,
не афишировать суммы на счетах дальних родственников в Швейцарии,
удачно выбрать подрядчика для строительства новых домов в пригороде,
умело организовать прием на загородной даче,
не позволять дремать своим сбережениям,
помочь продать вагон карабинов энергичному африканскому генералу,
почувствовать необходимость выйти из семейной спячки,
снять квартиру для хорошенькой преподавательницы стрельбы из лука,
съездить в Бразилию за недорогим лифтингом,
принять меры против накопления холестерина в венах,
прибегнуть к сердечным стимуляторам,
избегать сильных переживаний во время скачек,
ограничить общение с преподавательницей китайской гимнастики,
стараться чаще выходить в приватный парк,
как можно меньше пить виски, снотворных и стимуляторов,
навестить могилу родителей и убедиться в ее хорошем состоянии,
почувствовать безразличие к только что забитому голу,
больше не узнавать самого великого исполнителя куплетов,
чаще спрашивать время у медсестры (из Восточной Европы),
следить взглядом за бьющейся по эту сторону стекла мухой,
стараться дотянуться ночью до бутылки с водой,
упасть на пол и больше не шевелиться.
ИНОЕ
Перелистывать страницы книги надеясь обнаружить чистое слово
Крутить ручку настройки приемника
Разыскивая ухом кусочек музыки в массе звучания
Вглядываться в лица прохожих ловя
Отблеск удивления перед открывавшейся вечностью
Смотреть на летящие облака восхищаясь до слез их эфемерностью
Следить за паденьем листа дерева предвкушая собственное исчезновенье
Провожать взором загорелые колени велосипедистки
Вычисляя за сколько минут она доедет до следующего перекрестка
Подниматься к себе в мансарду не останавливаясь до этажа шестого
Гордясь хорошей работой привычного сердца
Засыпать глубокою ночью невинным сном
Наслаждаясь плавать в неведомом голубом пространстве
СВИДАНИЕ
Красота ее рта казалась необыкновенной
Тонкая линия верхней губы изогнутая луком усмешки
Приоткрытая нижняя обнажала жемчужную кукурузу зубов
Подбородок вызывал в памяти образ лебедя
Округлый тупой кончик носа изливал вожделение
Наполняя им взгляд слух и даже потели ладони
Немного беспокоила форма узости лба но к счастью
Ресницы полностью пленяли вниманье
И еще эти брови крыльями ласточки
Возносили предвкушение к далекому небу
А потом сладость косточек ключиц
Стекавшая к полушариям Магдебурга
Снабженным розовыми бутонами изнеможения
И наконец прерывая становящееся тягостным ожидание
Мужская рука поглаживала осторожно бедра
Проникая в пространство горячей тьмы между ними
Достигая вздрогнувшего шершавого углубления
Производя пожатием вздох и трепет
Нет нельзя вслух говорить о том
Что происходило с нами далеко заполночь
ФИЛОСОФ
Я спросил старого китайца лежавшего на асфальте при входе в театр
Почему инь и янь все время меняются местами
Он долго вслушивался в звуки непонятной речи и улыбался
Произнес вероятно слова и повернул руку ладонью вверх
Нужно думать что он просил милостыню и я так подумал
Положил на нее монету с профилем испанского короля
Он покачал головой и протянул мне деньги обратно
Улыбаясь он говорил что-то держа руку козырьком над глазами
ВОСПОМИНАНИЕ ДЕТСТВА
Всё связать в пучки
Всё сложить в аккуратные кучи
Всё разложить по коробкам
Всё развесить на стенах
Всех вывести во двор
Всем раздать деревянные кружочки
Всем приказать положить их на землю
Всем приказать отвернуться от них
Всем выдать по бутерброду
Всем приказать снять пиджаки
Всех пересчитать дважды
Всем приказать сравнить результаты
Всем приказать поднять правую руку
Всем продемонстрировать силу убеждения
Всех вынудить потупить взгляд
Всех отпустить живыми до следующего раза
ТРЕЗВЕНИЕ
Среди комсомольского воронья
Прошла наша певчая юность
И вот наша очередь развалиться на канапе
Потягивать различные бодрящие напитки
Когда-то втянутые ныне вывалились животы
И блеск взора подернулся поволокой сиесты
Смех взлетавший жаворонком
Стал жирным ползающим словно черви
Надежды уступили место проверке счетов
Вера вышла на минутку взглянуть на небо
И не вернулась а вот любовь
Обозначилась потным сопеньем в гостинице
Скучные списки титулов названий участий
Завесили окна и двери и даже форточки нет
Бедную душу ничто теперь не достанет
Разве великая блистающая угроза исчезновения
Только последний предел режущий последнюю пуповину
О ночная красавица соблазняющая однако немногих
Любовница берущая всякого по своему усмотрению
Не разбирая ни пола ни возраста писательница
Высекающая на продолговатом камне
День окончательной встречи с незадачливым смертным
ПРАЗДНИК В ПРОВИНЦИИ
Приближалась танцуя задела плечом
Я взглянул не подумав тогда ни о чем
Лишь наутро увидел движенье бедра
И в тревоге ужасной воспрянул с одра
Только сонное зрел трепетанье ресниц
И волшебно скольженье руки ее ниц
Открывался заветный мерцающий холм
Вожделенья и стонов и сладости полн
Словно выпук упругий тяжелой волны
Будто шелест речений горячей молвы
ТАК БЫЛО
Он писал эту книгу двадцать лет.
Ты прочел ее за одну ночь.
Так и должно быть, иначе не хватит
Людей на земле прочитать все книги
И оправдать существование библиотек.
И тем более библиотекарш.
Я знал одну по имени Маргарита,
У нее была неприязнь к произведению «Фауст»,
Он исчезал с ее поступлением на работу.
Читателей у сей знаменитой книги
Насчитывалось совсем немного. В конце концов,
Об этом знал только я, следовательно, никто.
Еще Маргарита любила водить пальцем
По запотевшему стеклу моего старенького автомобиля.
СВЯЗЬ ВРЕМЕН
вернуться в детство
через дверь ароматов трав
оказавшись в нем
смотреть в будущее
окно звездного неба
очнувшись оплакивать
настоящее
ПЕРЕД ПОВЕСТЬЮ
приходит мир на эти берега
под этой желтою луною
спасибо Господи печаль моя легка
как птичий лет над головою
великий день степенно настает
и ветер возится с ветвями
о рук твоих чудесный хоровод
и поцелуй горячими устами.
НА ВЕРАНДЕ КАФЕ
лаковые сапоги офицера
мятый галстук экономиста
запачканный пиджак художника
кокетливые баскетки студентки
широкие шаровары двоечника
пестрый костюм жокея
оживленная галиматья телеспикера
легкое платьице школьницы
тяжелая сумка домохозяйки
фетровая шляпа пенсионера
глубокое декольте певицы
жирное брюхо полицейского
лукавая улыбка министра
потная рука издателя
торопливая дребедень радиокомментатора
жирные щеки музыковеда
настороженный взгляд профессора
грязные волосы клошара
дубовый гроб генерала
и другие социальные роли
ПОСЛЕ ЭТОГО НЕ ПО ПРИЧИНЕ ЭТОГО
Пчела собирает нектар, а уже подбирается ветер сбросить ее в воду
Зоркий глаз сокола видит пугливую мышь вышедшую на сбор урожая себе на погибель
В венах маньяка густеет адреналин при виде беспечно идущей домой кассирши универмага
Встает солнце последнего дня изнемогшего от жажды заблудившегося гидролога
Рассеянно входит поэт в кафе и не знает что встретит сегодня любительницу его стихов надевающую после долгих раздумий розовые колготки
Школьник дрожа идет на экзамен с единственной теоремой в голове, и она-то и попадется ему в билете
Голодный бомж дрожащей рукой вписывает последнюю цифру счастливого номера лотереи
Муха цеце пронзающая кожу на бритом затылке спящего под пальмой вождя племени и заражая его смертельной сонной болезнью, не видя макаки уронившей огромный орех кокоса падающий вниз с растущей скоростью несущий смерть мухе вождю и мирному договору с соседями, оставшемуся неподписанным наступающим вечером при свете факелов на площади поселка
Директор банка в пижаме потягиваясь потягивает свой утренний кофе не ведая что в девяти километрах четверо безжалостных налетчиков смазывают и заряжают свои калашниковы
Известный писатель обнимает за плечи лолиту на берегу синего океана любуясь пенистым гребнем на горизонте не понимая что привлечен видом так называемого цунами
Дирижер дремлющий на заднем сиденье такси после долгого перелета испуганный сновидением Петрушки Стравинского сталкивающим его с дирижерского пульта в черную суфлерскую яму
Водитель грузовика со строительным мусором мчащийся к перекрестку уверенно нажимающий на педаль не зная что воздух весь вышел из тормозов через крохотное отверстие в проржавевшей металлической трубке
Премьер-министр читает доклад об экономии ожидаемой от принятия закона об эвтаназии не подозревая что стенки его сосудов утончаются в четырех местах готовясь прорваться и дать вытечь крови в центрах управляющими движением мускулов и парализовать их увы навсегда
И другие последствия неведения.
НУ И НУ
Ну поднимись
ну встань
ну переставляй ноги
ну давай ну потерпи
ну упрись ну нажми
ну подотрись
ну что ты такой
ну еще немного
ну тяни
ну подожди
ну поцелуй
ну вздохни
ну скажи
ну попей
ну утрись
ну не дрожи так
ну несите его
ну вот и всё
ЛЕТОПИСЬ
Вс. Некрасову, с восхищением
жили
переживали
дожили
жили же
переживали
пережили
жили
и дожили
переживали
выживали
доживали
и жили
дожили
переживали
выживали
отживали
выжили
сживали
поживали
и жили
и были
и сплыли